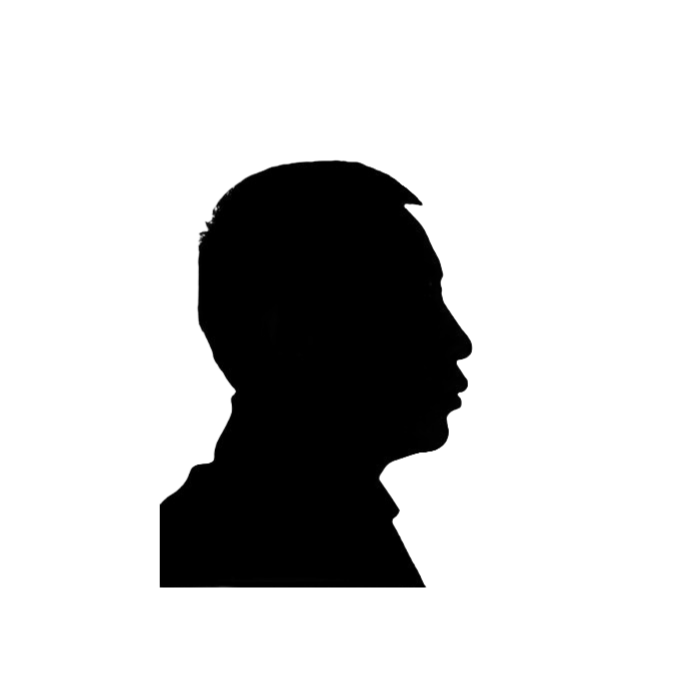Тили-тили тесто
Ермек Турсунов
У старика Ерасыла умерла жена. Калипа ее звали. Семьдесят пять ей было. Дай бог каждому, как говорится. Хорошо пожила Калипа. И детей вырастила, и внуков понянчить успела.
Болеть особо не болела, тихо отошла. Во сне. Говорят, такую смерть Всевышний только безгрешным отпускает…
И вот старик остался один.
Дети давно в городе, наезжают изредка. Все некогда им. Известное дело – город. Он людей не жалеет, – город-то, – он все из человека вынет, высосет. Все человеческое. И сердце окутает злом.
Пока жили со старухой вдвоем, вроде как, и не больно надо. Скучали, конечно, по детям, по внукам, но не так, чтобы на стенку лезть. А тут затосковал старик. Извелся. И не в том даже дело, что некому суп сварить. Ерасыл давно и посуду сам привык мыть, и пол в доме мести, и в огороде возиться. Да и много ли ему, старику, надо? Что ел, что не ел – все одно.
Вот сон пропал, это да. Не сон, а так, маета одна. Глаза закроешь и вроде как спишь. А может, и помер уже. Не поймешь.
А утро настанет, солнышко выглянет из-за гор и вроде как вставать надо. Только зачем, вот вопрос. Кто тебя в пустом доме ждет? Кто завтракать позовет? Кто вообще чего скажет?
Не знал, не думал Ерасыл, что жизнь такое ему уготовит. Что будет он вот так, на старости лет, в одиночку дни коротать. Да и когда об этом было думать? Все носился как лишенец, суетился чего-то. Деньги всё проклятые зарабатывал. Семья большая – пятеро детей. Всех одеть, обуть, накормить, образование дать каждому…
Вот. Дал называется. Разъехались все.
С другой стороны, вроде как правильно. Чего им тут делать, в селе? Да и села-то уж того нет. Выцвело все, да облезло. Из стариков только он да еще несколько таких же трухлявых пней остались. Доживают.
Вот и Калипа ушла. Тихо и безропотно, как и жила всю свою жизнь.
Первое время даже как-то не по себе было Ерасылу. Шутка ли – пятьдесят с лишним годков вместе. Полвека с гаком. Иной раз по привычке ждал ее. Сидел на кухне, не двигался. Шуршал газетой. Сердился: куда это она запропастилась со своим самоваром карга старая?
А потом – бум, как обухом по голове! Бог мой, так нету ж ее! Померла! Совсем померла. И не придет больше…
Днем еще ничего. Копошился по хозяйству, забывался.
А вот вечерами…
Когда аул стихал, и последние припозднившиеся в потемках возвращались к себе, в свои дома, где их кто-то ждал, и торопливые их шаги мерно стихали в дальних закоулках переулка…
И опускалась ночь. И накрывала черным все вокруг, и лишь брехали где-то на цепях собаки, и в окнах по одному гас свет, а потом и весь аул погружался во тьму…
Вот тогда совсем…
И не заснешь…
В такие ночи Ерасыл долго лежал с открытыми глазами в постели, потом тяжело поднимался, шел на кухню, чиркал спичкой, зажигал керосинку, чтоб сэкономить свет, и ставил на плиту чайник. Не потому, что чаю шибко хотелось. Нет. Просто смысл был в этом какой-то – человек чайник поставил.
А дальше что?
Ну, чаю попил, яйцо сварил, съел. Теперь что?
Так и шатался, пока рассвет не займется. С ним и ложился. С рассветом. Спать все одно не хотелось, просто уставал. Утомляли Ерасыла мысли его неспокойные.
И были бы мысли. Были бы думы великие. А так, ерунда одна в голову лезет. Вдруг вспомнит, как в детстве его гусь по двору гонял. Улыбнется. А иной раз, расстроится. Мать вспомнит. Как она хлеб пекла во дворе…
И вдруг однажды пришла ему в голову мысль. Неотступная такая мысль.
Через три улицы от него жила бабка – Нуржамал. Тоже одна. Муж ее помер лет десять назад. Дети все, как водится, повырастали и разлетелись кто куда. Изредка, по праздникам, навещали. Но тоже не часто.
Ерасыл решил – пойду к ней, поговорю. А что? Никто ж мне за это в морду не плюнет.
Скажу ей, мол, давай, переезжай ко мне. Вдвоем и скоротаем. Все не так одиноко будет. Живая душа все-таки, человек в доме. Не собака.
В городах старики вон с собаками живут. Кошек заводят. Попугайчиков…Ты думаешь они этих попугаев так сильно любят? Нет же! Это они от дум своих невеселых на закате жизни прячутся. В попугаях прячутся. Делать нечего, дураки.
Да и ей, небось, не сахар. Нуржамал. Одной-то куковать. А тут – вот. Может и не опора, но зато костыль. А скоро и зима на носу. А зимой и вовсе никуда не выйти. Иной раз думаешь – не дотяну на этот раз до тепла, так и крякну. Никто и не заметит…
А дети ее будут приезжать – ради бога. Пусть приезжают.
Наоборот: приедут – обрадуются. Успокоятся. Живой человек рядом. И им не так тревожно будет. Если чего случится – сообщит. Скажет – что делать надо.
И – пошел. Костюм еще зачем-то напялил, сто лет неодеванный. Медали нацепил.
Нуржамал удивилась. «О-о, – сказала. – Ну, проходи». Стул пододвинула. Сама села напротив и недобро уставилась на Ерасыла, чего типа, приперся, старый хрыч?
Но Ерасыл сделал вид, что не заметил и начал. Издалека.
Вот, смотри мол, Нуржамал, у человека все – парой. Два глаза у него и два уха, двое ног у него и рук тоже двое. А как отрубят одну руку, то и не знаешь что за хрен такой? Не болит, а – красный. Поэтому давай жить вместе.
Нуржамал аж рот открыла.
— Как это – вместе?
— Ну, так. Как все.
— А что люди скажут?
— А что они скажут? — пожал плечами Ерасыл. — Кому какое дело? Ничего особенного. Тоже мне новость.
Нуржамал словно окаменела, не двигалась. Видно было, что она и вправду растерялась и борется теперь с каруселью в голове, но не очень ей это удается.
Ерасыл поспешил на помощь.
— Ты это, — сказал, — не отвечай сразу. Посиди-подумай. Может и ни к чему оно? Это ж я со своей колокольни рассуждаю. Муторно, понимаешь, одному, прям спасу нет. Вот и подумал: почему бы вместе не дотянуть?
— Это что же, — стала потихоньку соображать Нуржамал, — ты меня замуж зовешь что ли?
— Да какой там замуж! — скривился Ерасыл. — Скажешь тоже.
— Ну а как это тогда?
И старики замолчали. Призадумались.
С одной стороны, выходило – вместе им уже почти полтораста лет. Женихаться, вроде как, поздно. С другой – сходятся же как-то люди. Сходятся и живут. И ничего.
— В общем, ты это, — поднялся со своего стула Ерасыл, чувствуя, что разговор не очень клеится. — Ты посиди пока. Шут его знает. А то осень на исходе. А у меня угля еще тонны полторы с той зимы осталось. А у тебя корова есть…
— Ну да! — вдруг спохватилась Нуржамал. — Мороки с этим углем. И печь хорошо бы перебрать. Чадит…
— Так ведь и я о том же, — поддакнул Ерасыл и пошел к двери.
У порога обернулся, хотел было что-то еще сказать, да не решился. Ушел.
На селе никакой слух на месте долго не лежит. Все видели, как Ерасыл заходил к старухе Нуржамал. Никогда ведь к ней не наведывался, а тут вдруг вырядился. Блестяшки нацепил. Зачем, спрашивается?
И понеслась по деревне злая веселуха: старики, мол, из ума выжили. Любовь крутят. Земля еще не просохла на бабкиной могиле, а он уже к другой клинья подбивает, кобелина.
И эта тоже хороша: вместо того, чтобы поленом по горбу, так она ему еще и водочки налила, стол накрыла. Расположились…
Разговоры эти быстро долетели до города. Примчался старший сын к Ерасылу. И чуть ли не с порога попер:
— Ты что, отец, свихнулся?
— А? Что? Кого?
— Ты не прикидывайся! Какая еще женитьба?!
— А кто говорит «женитьба»? — повысил голос и Ерасыл. — Никакая это не женитьба. Просто человеку нужен человек, нельзя в старости одному.
— Ну а сколько раз я тебя к себе звал?! — вскинулся сын. — Ты ж не едешь.
— И не поеду! — сверкнул глазами Ерасыл. — Чего я там в твоем городе не видал? Здесь помру, здесь и похороните. Приедете и закопаете, если время найдете. Вы ж все занятые теперь…
Поругались, одним словом и сын хлопнул дверью.
А к Нуржамал дочка приехала.
Вначале поплакали, как водится. Поревели. Потом завелись и давай до утра тарахтеть.
Ясное дело, дочка мать свою любила. Любила и жалела. Жалела, но помочь ничем не могла. Оно, конечно, вроде как и неудобно, с одной стороны, но женщине в таком возрасте тоже, знаете, непросто. Ей, можно сказать, даже тяжелее, чем мужику. В деревне-то. Хотя…Кому грузные годы в радость?
Посидели бабоньки до утра, повздыхали, да так ничего и не решили.
— Поступай, как знаешь, — сказала дочь и тоже уехала.
А деревня разделилась на два лагеря.
Одни прокурорами заделались. Судили: с ума посходили старики. Совсем стыд потеряли. Какой пример молодым?!
Другие выступали адвокатами. Убеждали остальных: он же не своровал ничего, дед-то. Не стал таиться, пошел и в открытую все выложил. Ну и молодец, все правильно сделал.
А сами Ерасыл с Нуржамал засмущались чего-то: это ж сколько шума из-за нас! Сколько разговоров! Нуржамал даже хотела переехать, продать дом и спрятаться куда-нибудь подальше. Да кому ее избушка тут нужна?
А Ерасыл, тот и вовсе перестал с людьми разговаривать. Как отрезало: не замечал их вовсе. Ходил, не оглядывался.
Но долго еще по аулу бродил слушок, будто бы Ерасыл снова таскается к Нуржамал. Печь якобы чинит.
Аха, печь… Как же…
Врали, конечно. Никуда он больше не ходил. Дома сидел. Даже в огород свой перестал лазить. Поросло там все бурьяном.
И вот однажды…
Зима уже вовсю лютовала. Снега намело по самые крыши. С утра морозило.
И полезла Нуржамал к себе в погреб за маринадами, а когда шла обратно, упала. Соседи заметили. Прибежали. А она уже не дышит. Врачи потом сказали – тромб оторвался. Не мучилась. Секунды…
Хоронили всем селом. И Ерасыл пришел потом, на поминки. Сидел молча за столом. Строгий такой. И все тихонько поглядывали на него. Думали: а может, и надо было им съехаться? Может, пожила бы еще Нуржамал…
Хотя…кто его знает, как оно сложилось бы.
Никто не знает.