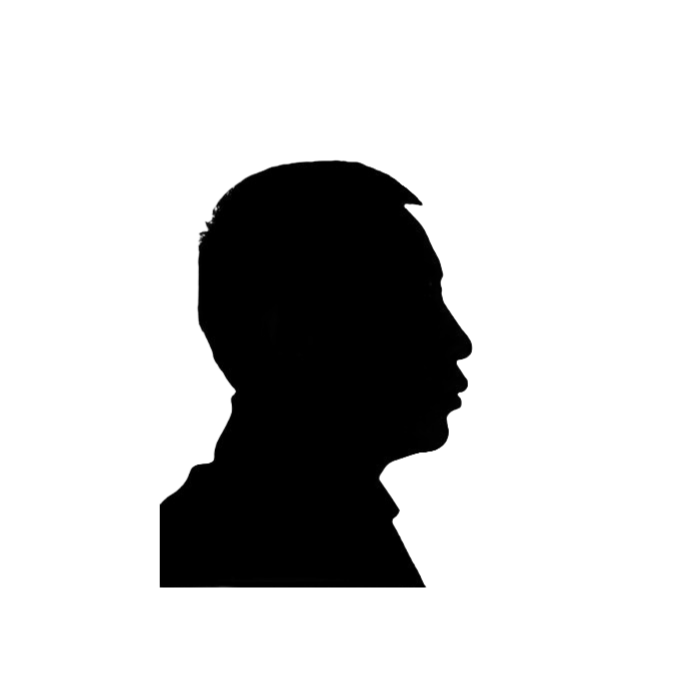Профессор без диплома
Ермек Турсунов
Московский период моей жизни оставил о себе противоречивые воспоминания. Событий было много. Не скажу, что все они были радостными, но скучными их не назовешь. Советский союз доживал последние свои годы. Правда, об этом тогда еще никто не знал. Все было как всегда: в магазинах очереди, а по телевизору КВН с Масляковым и программа “Время”.
Учился я тогда на Высших курсах сƒценаристов и режиссеров, что располагались неподалеку от Белорусского вокзала. На одноименную станцию мы ехали в метро, дальше шли уже пешком, через дворы. По пути заскакивали в какую-нибудь “Блинную” или “Сосисочную”. И так каждый день. С тех пор я сосиски не ем…
Жили мы в смурной и неустроенной вгиковской общаге с клопами и крысами по улице Галушкина. Это недалеко от ВДНХ. Курсистам был отведен последний 16-й этаж, который представлял собой – как позже мудрено назвали – содружество независимых государств. И казахи тут жили, и русские, и украинцы, и белорусы, и кавказцы, и прибалты, и все остальные. И был у меня там друг, сокурсник из Латвии – Эгилс Шноре. Хороший парень, добрый. И, помню, настала пора экзаменов, надо сдавать курсовые. А что наши курсовые? Это сценарии и синопсисы.
Эгилс был весьма образованный человек. Начитанный и умный, в кино здорово разбирался, но вот с русским языком у него…
Нет, он разговаривал очень даже прилично, а вот писать… Писать и говорить – это ведь разные вещи. С этим у Эгилса никак. И потом: одно дело идею “родить”, а другое – написать по ней сценарий. И вот он ко мне с предложением, по-братски, мол давай я тебе расскажу в подробностях свою задумку, а ты уложишь ее в “скрипт”. И вот за эту услугу я тебе подарю попугая.
— Кого? — не понял я.
— Попугая, — говорит.
— Какого еще попугая?
И тут он начинает мне рассказывать.
Оказывается, живет у него там в Риге попугай. Вернее, два попугая. Короче, попугайская пара. Кореллы. “Каралэфски” как он сказал и показал мне фото. Ну посмотрел я на фото. Сидят там, значит, в клетке два домашних арестанта с желтыми хохолками и розовыми пятнами на щеках. Симпатичная такая парочка. И вот эти попугаи, значит, женаты. Причем – не первый год. Брак со стажем, можно сказать. И каждый год в определенный период у них появляются детки. И вот этот момент снова как бы приближается и скоро у них, согласно распорядка, должно появиться пополнение. Супруга в положении. И вот все ждут. Счет идет на дни. И, чтобы не платить мне деньгами – между друзьями как-то денежные расчеты тогда вести неприлично было – Эгилс предложил мне кого-нибудь из будущего потомства.
— Я тебе выберу ссамый крассывый, — сказал Эгилс.
Надо сказать, гонорары мне платили по-разному. Кроме обычных денег платили, случалось, походом в какой-нибудь приличный кабак. Бывало, благодарили дорогим коньяком. Было даже, что однажды мне заплатили шикарным двубортным костюмом. Но чтоб попугаями… Такого еще не было.
Ну что я мог ответить Эгилсу? Предложение, конечно, неожиданное, но в то же время весьма интригующее. Попугая у меня еще не было. Никогда.
…Конь был. Собака была. Кот был. Даже суслики были с филином. А вот попугая не было. Тем более “Каралэфского”. И я согласился.
Написал Эгилсу сценарий, он успешно его сдал и полетел к себе в Ригу. Чтобы на месте, так сказать, наблюдать за процессом. Вскоре он мне отписался, что попугайская супружница благополучно разрешилась и произвела на свет четырех здоровых молодцов и что он выбрал для меня самого симпатичного.
Еще через какое-то время Эгилс прилетел в Москву и явился ко мне в комнату. Уже с клеткой. В клетке сидел мой гонорар. Не сказать, что он произвел на меня сильное впечатление. И, если уж совсем честно, то выглядел он… так себе. Уродом назвать не могу, но красавцем язык не повернется. И если он был, как уверял Эгилс, “самый крассывый” в попугайской семье, то про остальных я даже не стал спрашивать. Во всяком случае на родителей своих он не походил совсем. Не знаю, может мутация какая. Или кормили не тем… В общем, Эгилс заметил мое разочарование и поспешил успокоить.
— Ты не расстрайся, — сказал он. — Они в детстве все такие. Скоро он зарастает периями и станет совсем мохнатый.
— А сколько он будет обрастать? — спросил я.
— Недолго. Ну месяца один-два-три-четыре, — деловито ответил Эгилс. — А пока ты можешь его подерссировать и научить всяким таким разным словам и словэчкам.
Вот именно…
Что мы обычно слышим от попугаев? Вернее, в чем заключается их образование и как оно проявляется?
Полагаю, тут все по шаблону и вариаций на данную тему не много. Существует некий стереотип в восприятии. Чтоб его объяснить, приведу такой пример.
Вы обращали внимание на то – как ведут себя люди в зоопарке?
У клетки со львом они переходят на шёпот и смотрят почтительно. Возле жирафа задирают головы и замирают с открытыми ртами. На разную пернатую мелочь, на всяких там водоплавающих, на гусей и уток смотрят без особого интереса. А вот, увидев мартышек, оживляются и начинают скакать, прыгать, кривляться, строить рожи… И не сразу поймешь – кто кого тут развлекает.
С попугаями примерно то же самое. От них мы ждем избитых оскорблений и непристойностей.
Нет, конечно, встречаются экземпляры, которые выдают целые интеллектуальные представления. Такие могут и спеть, и сплясать, и анекдот рассказать. Профессора и академики птичьего мира. Но такие – редкость. В основном, все живут по трафарету.
Я решил пойти дальше. Вернее, я пошел проторенным путем, но как человек творческий, решил включить несколько существенных дополнений в образовательный курс Балтабая.
Кстати, попугая я назвал именно так – Балтабай. Потому что, во-первых, он уже был не латышским, а казахским попугаем. А во-вторых, мне это имя показалось максимально приближенным, собственно, к природе данной личности.
Должен нескромно признаться, что дрессировщик из меня неплохой. Как я уже отметил выше, проходили у меня обучение и коты, и собаки. Но кого сегодня удивишь образованными собаками? С ними все понятно. Однако был у меня еще и баран! Так вот, этот баран оказался талантливее многих собак и кошек. Он научился многим недоступным для других моих воспитанников вещам. Помимо того, что он, как все обычные Бобики и Шарики, приносил брошенную палку по команде “Апорт”, он еще мог принести мне тапочки. А еще он мог упасть и притвориться мертвым. Мог собрать букет из полевых цветов. Подавал голос. Подавал лапу. Вернее, копыто. Легко выполнял команды “Сидеть” и “Лежать”. Но особенно ему нравилась команда “Фас!”.
Словом, педагогический опыт у меня был. Через мою школу прошло разное зверье. А вот с попугаем дел я еще не имел. Но Эгилс научил. Он сказал, что надо будет накрывать клетку тряпочкой перед сеансом и повторять одни и те же слова. И тогда, оказавшись в темноте, попугай их механически заучит. И – потом.
— Он пока еще рыбенок, — сказал Эгилс. — Значит, мозг у него еще чистый, не засоревшийся.
Это означало, что всё, что будет записано на начальном этапе, с тем попугай и пойдет жить дальше по своей попугайской жизни.
С тех пор каждый вечер, вернувшись с учебы, я накрывал клетку с Балтабаем тряпочкой и повторял одни и те же фразы. Соседи были жутко недовольны. Они думали, что я с кем-то все время выясняю отношения.
На третий день грузин Заза, что жил от меня слева, не выдержал:
— Слюшай, — обратился он с просьбой, — ко мне сегодня придет адна дэвшка, так што я тебя прашу – не надо так материться.
Пришлось урок с Балтабаем пропустить. Ничего, подумал я, денек отдохнем. Однако на следующее утро пришел Гамлет. Он жил от меня справа. Он сказал:
— Слюшай дарагой ко мне сегодня придет одна харошая мадам. Я тебя как брата прашу, не нада ни с кем ругаться.
Так у нас и второй день занятий прошел впустую.
На третий день ко мне пришел узбек Джамал. Он жил напротив. Он сказал…
Впрочем, неважно, что он сказал. Важно, что вечерние занятия снова отменились. И такая нехорошая тенденция ставила под угрозу образование Балтабая. Но я ж не мог оставить его пребывать в его же дремучей темноте. Что-то надо было срочно предпринимать.
И тут мне пришла в голову гениальная идея!
Я же учил Балтабая русскому мату, который знают все. Ну, а на свете же существует еще и замечательный казахский мат. И тут, в нашей общаге, вернее, в нашем независимом содружестве, никто его не понимает! Ну, может быть, немножко Джамал. Но он ведь один. Остальным по барабану. И я принялся за дело.
Каждый вечер мы с Балтабаем запирались у меня в комнате, я накрывал его тряпочкой и мы занимались обучением. Пока на базовом уровне.
Примерно через пару месяцев упорных тренировок Балтабай уже знал с десяток самых популярных казахских выражений. Причем не просто знал, а произносил четко, без акцента, можно сказать, с душой. Явно было заметно, что человеческая речь доставляет ему удовольствие. И теперь, всякий раз, когда я возвращался со своей учебы, он встречал меня родным доброжелательным матом. И у меня сразу же поднималось настроение. И еще одна немаловажная деталь: голос у него оказался слегка с хрипотцой. Складывалось впечатление, что это ворчит какой-то замшелый аулбайский дед. И этот дед с раннего утра заводил со мной душевный разговор в знакомом мне с детства родимом контексте. И мне было уже не так тоскливо. А жил я тогда один, вдали от родины, скучал по друзьям и близким и тут – на тебе: сто двадцать грамм неуемного позитива. И я был уже не один. Нас уже было двое в комнате. А два это уже – компания.
К тому же, вынужден заметить, Москва мне почему-то не зашла. Ну бывает же: где-то по сердцу тебе новое место, живешь себе, кайфуешь. А где-то не того, не греет. Вот и Москва. Не мой это город. Неприветливый. Холодный. То ли дело – Питер! Там мне понравилось. А Москва…
Особенно зимой. Особенно в промозглые февральские дни, когда в подворотнях кружила метель и небо заволакивало тяжелыми свинцовыми тучами, когда на улице стоял сырой мороз и каркая тяжело кружили вороны, когда повсюду лежал грязный снег и стыли мутные лужи у метро, и толпа угрюмая сутуло туда-сюда… Вот тогда накрывала хандра. Прям плитой давила. И тут посреди этой депрессятины родная аульная брань. Тут она заходила особенно тепло и сердечно. И особенно эти знакомые с детства отсылки и адресные напоминания об отце и матушке, о дедах и прадедах, да и обо всей остальной родословной на сто верст в окружности. И все это по-доброму, от души.
А случалось ко мне заглядывали сокурсники. Кто за хлебом зайдет, кто за чаем. Балтабай никого не оставлял без внимания и одинаково радушно приветствовал всех. Гости умилялись и спрашивали – о чем это он? Я отвечал уклончиво. Мол Балтабай рад тебя видеть, желает всяческих успехов в учебе, ну и так далее.
Но однажды случился форс-мажор…
Приехал родственник. Дальний. Я сейчас даже имени его не помню. То ли он жил в одном ауле с моей роднёй, то ли знал кого-то со стороны отцовского двоюродного брата. Короче, дядька. Седьмая вода на киселе. Все ж в курсе, как приезжают казахи: без всякого предупреждения. И вот заявился, значит, мой дальний родственник, человек солидный, лет ему тогда хорошо за пятьдесят или того больше. Он проездом в Казань летел и, чтоб сэкономить на гостинице, заехал ко мне. Не стану утверждать, что это было с его стороны роковой ошибкой, но первым его приветствовал, как и положено, Балтабай. Приветствовал радостно, со всеми подробными пожеланиями. Дядька мой слегка напрягся и застыл на пороге. Я поспешил накрыть Балтабая тряпочкой, но это не особо повлияло на общее положение. Балтабай почувствовал чужака в комнате и продолжил подавать знаки внимания. Тряпочка в этом смысле особо не спасала, просто голос стал глуше.
А-а, да, забыл сказать. Была у моего Балтабая еще одна милая привычка. Он пока все свое пожелание не выскажет до конца, он не остановится.
Мы сели пить чай под балтабаевский аккомпанемент. Посидели так с полчасика, поговорили. Я старался молчать, потому что Балтабай реагировал на мой голос. Но дядька, согласно наших традиций, стал расспрашивать о том, о сем. О делах моих, о здоровье, про учебу, естественно, спросил. Я старался отвечать коротко, но Балтабай все равно успевал вставлять свои выразительные реплики. И тогда мой родственник тяжело вздохнул и говорит:
— Слушай, это что такое? Он заткнется или нет?
— Нет, — честно ответил я.
— Тогда давай лучше спать.
— Правильно, — согласился я. — Нам лучше выключить свет. Он в темноте молчит.
Как только мы улеглись, и погасили свет, Балтабай в последний раз громко пожелал нам всяческих благ в жизни и тоже выключился.
А потом настало утро.
Балтабай проснулся первым и сразу же разразился счастливым трехэтажным пассажем. Дядька вздрогнул и спросонья ответил ему не менее душевым оборотом. Балтабай подхватил. Дядька возразил. Неожиданно у них завязался яростный диалог. Но, когда Балтабай прошелся цветисто по прабабушке дядьки со стороны его матери, тот вскипел, быстро оделся и ушел. Даже не стал завтракать.
После этого случая я задумался. Не исключено, прикинул я, что ко мне могут приехать и другие родственники. Дальние и близкие. И не только родственники. И не все они будут рады знакомству с моим образованным – теперь уже – подопечным.
Ну, а что делать? Разве мог я тогда предполагать, приступая к просвещению Балтабая, что все обернется таким вот неожиданным образом. Я же просто видел в нем товарища, собеседника, соратника в конце концов, с
которым буду делить свой хлеб и кров. И с которым буду коротать унылые московские вечера. И я вовсе не рассчитывал на то, что Балтабаю придется вступать в диалог с остальным, окружающим нас, миром. И что мир этот его не поймет. Да и как он его поймет, если этот мир даже меня не понимает. Да и у меня, если честно, поднакопились к этому миру серьезные вопросы. Я давно перестал его понимать. Балтабай в этом смысле казался мне намного ближе и адекватнее. Во всяком случае все его мысли и все его красочные высказывания полностью совпадали с моим отношением ко всему происходящему вокруг.
Тем не менее, надо было что-то делать с неожиданно сложившейся ситуацией. Она усугублялась еще и тем, что юный и целомудренный балтабайский мозг намертво записал все мои наставления. Вынуть их оттуда, либо как-то уничтожить, не представлялось возможным. Не делать же Балтабаю лоботомию в конце концов… И тут…
И тут ко мне приехал из Джамбула близкий друг. Он приехал в Москву за модными пластинками, что сбывали фарцовщики из-под полы на Чистопрудном и, естественно, остановился у меня. И, естественно, на него также обрушился поток балтабаевских напутствий и рекомендаций. Воспринял он это уже не так болезненно, как тот дядька, а вполне благодушно. По приезде в Алма-Ату рассказал всем остальным, какого ухаря я себе завел. Буквально через недельку ко мне приперлась уже целая толпа. Всем вдруг приспичило удостовериться в словах моего джамбулского кентубаса. А, удостоверившись, они понесли эту новость дальше, каждый по своему кругу.
Довольно скоро поползли паршивые слухи. Они стали обрастать нелепыми подробностями. Кто-то пустил “залепуху”, что я развожу в Москве птиц и на этом конкретно “рублю капусту”. Кто-то дополнил легенду тем, что одна из моих птиц поет под гитару шлягеры зарубежной эстрады. Все кому не лень стали ломиться ко мне с предложениями вместе заняться птичьим бизнесом или же просто поглазеть на “звезду”.
Понятное дело, что все это стало мне порядком надоедать. Я стал лихорадочно думать – что делать? С одной стороны к Балтабаю я привык, но с другой – я ж приехал в Москву учиться, а не шоурум устраивать.
И тут появилась Веануш…
Училась с нами на Курсах милая такая девушка из солнечного города Ленинакана. Как-то она попросила у меня книгу доктора Кемпбэлла. (У меня у одного была распечатанная на машинке диссертация Джозефа Кэмпбелла о всемирном мифе). Вот ее и попросила Веануш. “На один день”.
— Хорошо, — ответил я. — Заходи после школы.
И как только Веануш постучалась в дверь и вошла в мою комнату, тут же Балтабай, по своему обыкновению, обложил ее с ног до головы. Веануш так это понравилось, что она тут же позабыла о Кэмпбелле и подсела к Балтабаю. Тот, конечно, как настоящий джентльмен, воодушевился еще больше и выдал ей длиннющую тираду, где помянул всех ее родственников с обеих сторон. Веануш в восторге захлопала в ладоши:
— Какая чудесная птичка! Она же на твоем языке разговаривает?
— Да, — гордо ответил я. — Говорит на моем. И это – не она. Он – мальчик.
— Мальчик?! – еще больше обрадовалась Веануш. — А что он говорит?
— Он желает тебе огромного счастья в личной жизни и крепкого здоровья твоей матери.
— Да ты что?! — воскликнула Веануш. – Как здорово! Ты представляешь, а я с детства мечтала о такой птичке. Но мне родители не разрешали.
И тут у меня вылетело.
— Нет ничего проще, — проговорил быстро я. — Ты можешь забрать его себе.
Веануш на секунду зависла. Лицо ее вытянулось, а густые брови взлетели на лоб.
— Как это? – пробормотала она по слогам.
— А вот так. Я могу тебе его подарить.
— Как это подарить?!
— Ну вот так, — повторил я. – Понимаешь, у нас такая традиция. Любой человек, который приходит к тебе в первый раз и которому что-то понравилось, может взять это себе.
— Правда что ли? — еще больше удивилась Веануш.
— Абсолютная, — кивнул я.
— Послушай, ну как-то неудобно, — заморгала Веануш своими прекрасными армянскими глазами. — Честное слово, я ни на что не намекала. Я просто так сказала.
— Да без проблем, — сказал я. — Если он тебе нравится, то можешь его забрать.
— Вот так вот взять и забрать?!
— Да. Бери. Он – твой. И я вижу, что ты ему тоже понравилась.
Веануш замялась.
— Ну давай я хотя бы денег тебе заплачу?
— Никаких денег, — твердо отрезал я. — Он же мой друг. А мы друзей не продаем. Так что я могу его только подарить.
Веануш застыла на мгновенье и из прелестных глаз ее скатилась слеза благодарности. Она обняла меня в приливе чувств и проворно взяла клетку с Балтабаем. В дверях обернулась:
— Ты же не пошутил, да? — спросила она с надеждой в голосе.
— Ни в коем случае, — также твердо повторил я.
— Тогда я отвезу его в деревню, к бабушке с дедушкой. Он будет жить у них, там, на природе, среди простых людей, а я буду приезжать к нему каждый день! Обещаю!
— Очень правильное решение, — тут же подхватил я. — Среди простых людей ему самое место. Он там сразу найдет с ними общий язык.
— Хорошо. А как его хоть зовут? — спросила напоследок Веануш.
— Его зовут Балтабай, — сказал я.
— Какое прекрасное имя! — воскликнула Веануш. – Так, наверное, звали ваших царей.
— Исключительно! — подтвердил я. — Тем более, что он сам из “каралефских” кровей!
Вот такая вот история приключилась у меня с Балтабаем.
И теперь я думаю.
Говорят, попугаи живут долго. С учетом такого непреложного факта я уверен, что где-то сейчас на просторах благословенной Армении звучит хриплый голос моего незабвенного Балтабая, который кроет всех подряд первосортным аульным матом, доставляя людям непосредственную детскую радость. И это обстоятельство лишний раз подтверждает старую истину о том, что образование необходимо в любом обществе. Потому что только образование способно сделать из животного человека, и наоборот, его отсутствие, превратить любого человека в животное. Балтабай тому живой пример. Он получил блестящее московское (подчеркну) образование, а юность провел в знаменитой вгиковской общаге, в стенах которой жили такие светилы советского и мирового кинематографа как Рязанов и Тарковский, Хуциев и Шукшин. И пусть у него нет диплома. Нынче это ничего не значит. Вокруг полно дипломированных кретинов. А для неординарной личности, коим является Балтабай, в первую очередь всегда важно было вырваться из своего привычного круга. Так вот, Балтабай не только вырвался, но и нашел свой путь. И ушел по этому пути далеко вперед, освоив множество наук. В том числе и незнакомый ему язык степных номадов. Причем в самом сочном и аутентичном его звучании. Вполне допускаю, что, очутившись в новой среде, он смог обогатить свой багаж новыми знаниями, уже из традиционного армянского фольклора. Что делает его совершенно уникальной фигурой, которая самым доступным образом знакомит пытливых слушателей с бытовой лексикой разных народов. Являя, тем самым, собой связующее звено двух таких древних и таких содержательных культур.